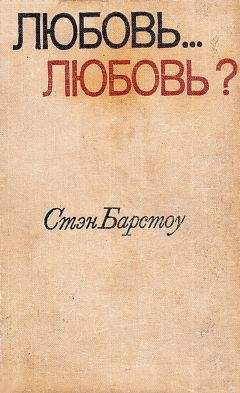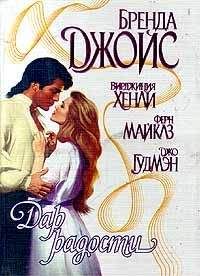— Конечно, правда, — сказал Эрик. — Приезжайте, когда вздумается.
Интересно, как бы они повели себя, если бы она вдруг вечером заявилась к ним, когда у них, скажем, были бы гости, — промелькнуло у нее в голове. Но она тут же отбросила эту мысль и проводила молодых людей до задней двери, где они с Евой снова поцеловались. Ева прошла по хрустящему смерзшемуся снегу и села в коляску. Миссис Скерридж пожелала им доброй ночи и постояла, пока они не завернули за угол дома. Она еще подождала, пока не взвыл мотор, и только тогда закрыла дверь и вернулась в дом.
Она села и принялась смотреть в огонь, и ей вдруг стало так горько, так жалко себя, что непрочный барьер безразличия, которым она себя окружила, рухнул, и по ее впалым щекам тихо потекли слезы. Впервые за многие годы она позволила себе эту роскошь — выплакаться. Она оплакивала многое: одиночество сегодняшнего дня и вчерашнего; слишком краткий период счастья и будущее, которое ничего не сулило ей. Она плакала о том, что жизнь не сложилась так, как могла бы, и плакала о том, что она сложилась именно так. Однако слезы не принесли ей утешения. Вечер постепенно переходил в ночь, а она все сидела, и горе ее медленно перерастало в возмущение, в обиду при мысли о том, что Скерридж находится сейчас в городе; среди света и людей, что он идет куда-то вместе с вечерней субботней толпой, чтобы поставить ее счастье и благополучие в зависимость от быстроты ног какой-то собаки, гонящейся за механическим зайцем. Немного погодя, нагнувшись, чтобы помешать в очаге, она вдруг почувствовала острую боль. Кочерга со звоном ударилась о каменную решетку — боль пронзила миссис Скерридж, как раскаленное копье. Усилием воли, от которого пот выступил у нее на лбу, она распрямилась и, с трудом переведя дух, откинулась на спинку кресла. Люмбаго — такое чудное слово, что его даже трудно принять за название болезни, хотя болезнь эта не шуточная — во всяком случае для нее. Боль возникала неожиданно, вот как сейчас, и миссис Скерридж становилась совсем беспомощной. Иной раз это случалось ночью, и она лежала, обливаясь потом, пока ей не удавалось разбудить Скерриджа и попросить его перевернуть ее на другой бок. Она взглянула на часы, стоявшие на полке над очагом. Скерридж вернется, может, только еще через час или два. А ей так хотелось побыстрее забраться в теплую постель, и чем больше она этого хотела, тем острее ощущала желание досадить Скерриджу.
Вот тогда-то ей впервые и пришла в голову мысль запереть дверь на ночь и не пускать его в дом.
Она понимала, что это жалкая затея, но ничего другого придумать не могла, чтобы выразить свою обиду и показать, что не желает больше считаться с ним. Она предвидела, что ничего хорошего из этого не получится, хотя мысль, притупленная болью, возникавшей на пороге каждой секунды, и не подсказала ей, каким гневом может вскипеть наутро Скерридж. Сейчас она думала лишь о теплой постели и о забвении, которое несет с собой сон. Она не могла и помыслить о возвращении пьяного Скерриджа или представить себе, что ей придется сносить его приставания, жалкую пародию на пылкие порывы их молодости.
Она вскипятила чайник и, налив кипятку в глиняную бутылку, потащилась наверх. Там она приготовила себе чаю и принялась рыться в буфете, где хранились старые рецепты и пузырьки с патентованными средствами, пока не наткнулась на круглую коробочку со снотворным, которое когда-то выписал ей врач. На этикетке значилось: принимать по две штуки и ни в коем случае больше. Она взяла две пилюли, помедлила и проглотила третью. Ей хотелось заснуть покрепче, чтобы не просыпаться, когда придет Скерридж. Стоя так, с коробочкой в руках, она вдруг подумала: а хватит ли там таблеток, чтобы заснуть и уже никогда не проснуться, и тотчас отшвырнула коробочку подальше, в гущу пузырьков и пакетиков, и закрыла буфет. Она налила себе чаю и выпила его, сидя перед огнем, охватив пальцами теплую кружку. В одиннадцать часов она разгребла угли в очаге, вышла в сени и закрыла заднюю дверь на засов. Еще не задвинув его, она почувствовала, как на нее наползает знакомая апатия. К чему? Что это даст? Потом повернулась и пошла назад, в кухню, прикрутить газ. При свете свечи она осторожно поднялась наверх. Разделась и, дрожа, залезла под влажную простыню. Долго передвигала она бутылку с горячей водой, пытаясь отогреть то один застывший бок, то другой, пока вдруг не согрелась, и тогда быстро заснула.
Скерридж пристально глядел то на купон, то на газету. Вошел какой-то человек и остановился у стойки рядом с ним. Он заказал себе выпить и заметил, обращаясь к Скерриджу: «Ну, и холодище сегодня, правда?» Скерридж не отвечал: он едва ли даже заметил, что сосед обратился к нему. В его мозгу бурлил Гольфстрим, он даже сжал пальцами виски, стараясь совладать с собой и успокоиться, чтобы не торопясь еще раз проверить результаты. Нет, все так, как он и думал. Ошибки быть не может: он выиграл по семи матчам в комбинации — вот выиграть бы еще один матч, и он наберет нужное число очков. Оставалось сверить цифры, а поскольку матч был поздний, данные о нем были впечатаны в последнюю минуту в самом низу страницы. Скерридж снова попытался их разобрать. Он выиграл либо в комбинации, либо по отдельным результатам. В последнем случае сумма будет меньше и он получит лишь часть выигрыша. Словом, его ждет либо несколько жалких сотен фунтов, либо состояние.
— Послушайте… Вы не можете это разобрать?
Он сунул газету под нос человеку, который ранее обращался к нему, тыча пальцем в расплывшийся шрифт.
— Вот эта последняя строчка, тут. Что здесь напечатано — просто двойка или же два и три?
Человек поставил кружку на стойку и взял газету из рук Скерриджа. Он повернул ее к свету.
Что-то не ясно, — сказал он. — Не знаю. Похоже, что два и три. Выигрыш по одному матчу.
— Не может быть, — сказал Скерридж. — Здесь должен быть выигрыш в комбинации. — Он обернулся к шахтерам, игравшим в домино: — Есть у кого-нибудь «Эхо»?
Голос у него был такой взволнованный, что верзила-шахтер, передавая ему газету, спросил:
— Что с тобой, Фред? Выиграл круглую сумму?
Скерридж выхватил у него газету.
— Еще не знаю, — сказал он. — Не знаю. — Он провел пальцем по интересовавшей его колонке. Выигрыш был в комбинации, по восьми матчам, на которые он поставил.
— Комбинация, — сказал Скерридж. И скомканная газета соскользнула на пол.
— Эй, ты! — крикнул ему верзила. — Это моя газета, верни ее, раз она тебе не нужна!
— Да я куплю тебе десять таких газет, — сказал Скерридж. — Я выиграл комбинацию в восемь матчей. Восемь проклятых матчей. Вот, смотри! — Он схватил купон со стойки и сунул его под нос сидевшим за столом шахтерам. — Я восемь раз выиграл, а в купоне как раз восемь талонов!
Тот, что сидел с краю, взял купон и внимательно осмотрел его.
— Видишь, — сказал Скерридж, тыкая в купон пальцем. — Семь талонов вот тут и один здесь.
Шахтер смотрел на купон, вытаращив глаза.
— Ей-ей, не врет. Ей-ей!
— А ну-ка, дай взглянуть, — сказал другой. Все положили домино черной костью кверху, и купон пошел по рукам.
— Счастливый, черт, — пробормотал один из игроков.
Скерридж тут же прицепился к его словам и возбужденно воскликнул:
— Счастливый, говоришь? А сколько лет я на это потратил! Сотни фунтов вложил и вот сейчас только выиграл.
— На этой неделе подбивают итоги, Фред, — сказал верзила. — Выигрышей-то всего восемь, так что дележки большой не будет. Да, тысяч сто можешь получить!
Услышав эту астрономическую цифру, на одни проценты с которой человек мог недурно прожить до конца своих дней, все умолкли. Сто тысяч фунтов! Скерридж, который думал лишь о том, что выигрыш у него в руках, до сих пор как-то не представлял себе его размеров. Но сейчас глаза его, да и все лицо загорелись диким огнем.
— И выиграю! — рявкнул он. — В купоне-то всего восемь талонов, я же сказал!
Он схватил кружку со стойки, сделал большой глоток и со стуком опустил ее, как бы ставя точку под принятым решением.
— Я сегодня выиграл шесть монет на собачьих бегах, — сказал он. — Всем ставлю угощение. А ну, давайте пейте. Заказывайте чего кто хочет — виски, рому, чего угодно.
Все протянули свои кружки, не дожидаясь повторного приглашения. Вскоре новость перекинулась через коридор, проникла в зал, где шел дивертисмент, и оттуда, повалил народ — они похлопывали Скерриджа по спине и пили пиво, за которое он платил, а он стоял, привалившись к стойке бара, раскрасневшийся, торжествующий.
Вскоре после того, как заведение закрылось, он очутился на улице в обществе Чарли и Уилли с целой бутылкой рома в руках и пустым кошельком в кармане.
— Я всегда говорил, — сказал Чарли, — всегда говорил: деньги не должны стоять между человеком и его друзьями.
— Какие деньги? — спросил Скерридж.